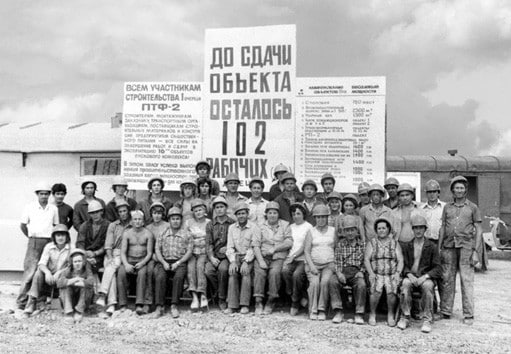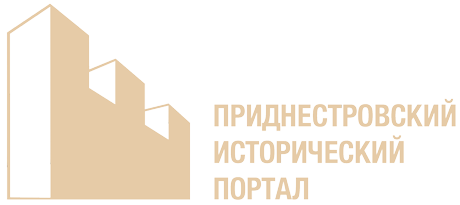В некоторых трудах историков, политологов и социологов выдвигается гипотеза о том, что молдово-приднестровский конфликт в большинстве своем возник в результате противостояния национальных идентичностей – молдавской и румынской. В начале 90-х годов XX века приднестровские молдаване поддержали создание ПМР, поскольку надеялись путем образования собственной республики сохранить свою молдавскую идентичность, молдавский менталитет, свою уникальную молдавскую культуру и молдавский язык. И в этом плане противоречия между Приднестровьем и Молдовой возникли вовсе не по линии «приднестровские интернационалисты – молдавские националисты», а по линии «молдовенизм приднестровцев – прорумынский шовинизм кишиневских властей» [6, с. 122].
Согласно мнениям других ученых и политических экспертов, молдово-приднестровский конфликт расценивается как языковой конфликт между молдово- и русскоговорящими общинами. Некоторые исследователи, придерживающиеся данной гипотезы, определили его как конфликт между проживающими в Молдове этническими молдаванами и этническими русскими [5, с. 59]. Логично было предположить, что оппозиция официальному статусу русского языка столкнулась с интересами русских, принимая во внимание, что в большинстве советских республик русские представляли наиболее значительную группу нетитульного населения. Эта модель была применена к Молдове и Приднестровью. В результате некоторые эксперты указали только на одну из причин конфликта – нежелание русских отказаться от своих некогда привилегированных позиций в союзных республиках, которое поддерживалось нежеланием России терять свое господство в этих республиках [4, 12]. Российская пресса и Государственная Дума, представляющие приднестровцев как боевое русское меньшинство, борющееся против шовинистического молдавского национализма, поддерживали такое мнение [5, с. 59].
Таким образом, приднестровский конфликт был описан как этнический, в котором две этнические группы противостояли друг другу. Однако, как заметил американский исследователь Стюарт Кауфман, это не был просто конфликт между молдаванами и русскими, «… поскольку в населении приднестровского региона преобладала группа, включающая русифицированных молдаван и украинцев, а также русских». С. Кауфман считает, что приднестровское русскоязычное население являлось не этнической группой, а скорее «коалицией объединенных этнических интересов, противостоящих молдавским этническим интересам» [5, с. 59]. Таким образом, его вывод основывался на том, что каждая конфликтующая сторона имела свое представление об историческом доминировании другой группы в различные периоды в прошлом, и проблемы этнического символизма, такие, как флаг, язык и алфавит, оказались на острие политической программы. Более того, лидеры каждой общины заявляли, что они столкнулись с дилеммой безопасности, реальной угрозой истребления: молдаване считали, что продолжающееся преобладание русского языка приведет к исчезновению их этноса, а русскоязычные думали, что придание приоритетного статуса молдавскому языку и румынский триколор (под которым румыны выступали во время Второй мировой войны) возродят шовинистически) политику фашистской Железной гвардии Румынии.
Мнение о том, что молдово-приднестровский конфликт был не более чем политическим (или являлся непосредственным результатом мобилизации элиты), также нашло сторонников, хотя в других работах те же авторы характеризовали его как этнический.
В результате анализа всех вышеизложенных выводов и мнений нужно констатировать, что они не объясняют всего о конфликте между Приднестровьем и Молдовой. Хотелось бы отметить, что, согласно статистическим данным, в 1989 г., в начале конфликта, 39,9% населения Приднестровья составляли молдаване, 28,3% – украинцы и 25,4% – русские [6, с. 121]. Часть украинцев и молдаван ассимилировали с русскими, чего нельзя сказать об этих группах в целом. Большая часть этих групп сохранила свой язык, культурные традиции и чувство принадлежности к своим этносам. Таким образом, разнообразие характеристик, данных конфликту, указывает на то, что ни одна из них не является совершенной, и требует поиска новых подходов.
Подход к исследованию с позиций изучения идентичности был уже использован некоторыми учеными, но их мнения о том, какую именно идентичность представляет собой приднестровское население, расходились. Впервые идея общей идентичности была сформулирована в Докладе № 13 Миссии ОБСЕ в Молдове в ноябре 1993 года. В нем указывалось, что «ясное чувство собственной приднестровской идентичности» существует в регионе и «оно основывается главным образом не на этичности, поскольку разделяется не только славянами, но и большинством этнических молдаван» [3]. Ванда Дресслер использовала термин «особая днестровская идентичность», Клименс Бушер – «определенная идентичность», а Пол Колсто и Андрей Малыгин – «неопределенная, но тем не менее осязаемая общая идентичность», которая «проходит поперек этнических границ» и «обязана больше истории и географии, чем идеологии», в то время как «признаки культурной идентичности, такие, как язык, также играют свою роль» [5, с. 60]. Необходимо отметить, что некоторые молдавские политики также признали, что Приднестровье отличается от основной Молдовы, хотя они и не употребляли термин «идентичность». Николае Киртоака, советник президента Республики Молдова по военным вопросам в период военного конфликта в Приднестровье, позже подытожил, что «область к востоку от реки имеет отличительные черты», а бывший президент РМ Петру Лучински заметил, что Приднестровье имело свои особенности, которые требовали предоставления ему «специального статуса».
Общее признание существования приднестровской идентичности, различные мнения и термины, которыми определяется ее характер, стимулировали попытку автора ответить на следующие вопросы:
– как и когда сформировалась приднестровская идентичность как результат формирования приднестровского народа?
– какие факторы воздействовали на ее формирование?
– какого рода эта идентичность – этническая, региональная, лингвистическая или другая?
– насколько она сильна и долговременна и каковы возможные траектории ее развития?
Ответить на все эти вопросы достаточно сложно, но автор и не рассчитывает выполнить эту задачу в полном объеме. Поэтому данный материал может послужить основой для будущих дискуссий.
Сам термин «идентичность» трактуется по-разному. Дэвид Лейтин считает, что «идентичность – это категория членства, она может основываться на таких различных признаках, как пол, личность, каста, класс» [7, р. 81]. Этнический компонент отсутствует в этом направлении, но другие авторы утверждают, что идентичность формируется материалом, полученным в семье* общине, обществе, нации. В таком контексте важно, какой тип идентичности рассматривается. Если это национальная или этническая идентичность, то выстраивается комплекс коллективных собственных имен, языков, легенд, истории и других черт, принятых в качестве базовых для коллективного самоопределения данной группы населения на ограниченной территории, и следует говорить о «политике идентичности». Поэтому в широком смысле идентичность включает язык, культуру, традиции, историю, политические идеи и мнения. Лицо или группа имеют несколько идентичностей: языковую, этническую, религиозную, национальную, политическую и др., и они не могут быть унаследованы, они приобретаются. В то же время идентичность изменчива под влиянием исторических, политических и культурных процессов. Поэтому формирование идентичности – это длительный процесс, и его траектории могут неоднократно меняться. Очень важным компонентом идентичности является то, что члены группы разделяют ощущение принадлежности к этой идентичности.
Если приднестровцы имеют общую идентичность, то каков тип этой идентичности? Она может быть территориальной и региональной, основанной на том факте, что река Днестр отделяет Приднестровскую Молдавскую Республику от Республики Молдовы (за исключением Бендер с окрестными селами) и что ее политическая история была отличной от Молдовы вплоть до 1940 года. С другой стороны, Приднестровье до 1990 года никогда не существовало как административная область в нынешних границах. Означает ли это, что региональная идентичность начала формироваться только с 1989 года? Какие в таком случае факторы стояли за приднестровской идентичностью?
Да, Приднестровье было классической пограничной территорией. В древности здесь сменялись различные народы. В средневековье земли вдоль левобережья Днестра, поделенные между Польско-Литовской Унией и крымскими татарами, были мало заселены, особенно в южной части. Поворотным моментом в истории Приднестровского региона стало включение его в состав Российской империи в начале 90-х годов XVIII века, что повлекло за собой активную колонизацию. Население прибывало как с Востока, так и с Запада. В составе Империи данная территория оставалась на протяжении почти 130 лет до революции 1917 года и создания СССР в 1922 году. С 1924 года Приднестровье находилось в составе Украинской ССР в качестве автономии под названием Молдавская АССР. Однако через 20 с лишним лет эта область была выведена из состава Украины и в 1940 году вместе с частью Бессарабии составила Молдавскую Советскую Социалистическую республику. Во время Великой Отечественной войны эта территория, оккупированная румынской армией, вошла в оккупационную зону «Транснистрия», располагавшуюся в междуречье Днестра и Южного Буга. МССР была восстановлена в своих границах в 1944 году и просуществовала в таком виде до 1991 года.
С начала XIX века население края было этнически неоднородным, представленным в основном тремя большими этническими группами (украинцами, молдаванами, русскими), ни одна из которых не составляла большинство.
Из-за частых политических перемен и этнической политики властей ни одна из основных этнических групп не чувствовала себя владелицей этой территории. При царизме отсутствовал особый подход к подданным, исповедующим православие. Поэтому молдаване, русские и украинцы находились в одинаковых условиях: большинство из них были просто крестьянами, которые говорили на разных языках и работали на землях разных помещиков. Русский язык преобладал в немногих городах в основном в административной сфере, в церквях и школах. После включения Приднестровского региона в состав Украинской ССР началась украинизация, и большинство школ были украинифицированы.
В 1924 году по решению руководства СССР на территории восточнее Днестра была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (МАССР). С этнической точки зрения этот шаг был неоправданным, поскольку молдаване составляли не более 30% населения. Но создание республики объяснялось не стремлением поддержать развитие молдавского этноса, а скорее геополитическими интересами: существо ванне Молдавской республики должно было служить аргументом в борьбе СССР за присоединение Бессарабии. Наряду с другими республиками Советская Молдавия стала частью политики «коренизации», которая заключалась в укреплении молдавского этнического элемента в коммунистической партии и в государственном аппарате, открытии молдавских школ и публикаций газет на молдавском языке. В результате этого преобразования стали испытывать трудности украинцы, так как украинские школы, газеты, учреждения культуры начали постепенно закрываться.
Однако общие результаты политики коренизации в МАССР не оправдали ожиданий. В октябре 1927 года только 8% сотрудников центральных республиканских учреждений были молдаванами и только 5% знали молдавский язык. К 1936 году доля молдаван в госучреждениях возросла до 15% [5. с. 61].
Еще более худшими оказались результаты внедрения молдавского языка: не все, кто идентифицировал себя с молдаванами, могли использовать язык своих предков. В то же время молдаване заняли в республике самые высокие посты, а представителям других этнических групп достались «ответственные» и «технические» должности.
В августе 1940 года территория МАССР была поделена между Украинской и Молдавской республиками. Новая республика – Молдавская ССР – включала центральную часть бывшей российской, а затем румынской провинции Бессарабия. Разница в уровне развития промышленности, сельского хозяйства, образования и медицинских учреждений Приднестровья и Бессарабии была ошеломляющей. На левобережье Бессарабию рассматривали как чрезвычайно отсталую область, и чувство иной, отличной идентичности сохранялось, невзирая на политическое объединение. Молдаване левого берега дифференцировали себя от правобережных молдаван, а их язык имел лишь легкое сходство со стандартным румынским, который был введен в Бессарабии в период между двумя войнами. Интенсивные контакты молдаван с другими этническими группами в Приднестровье обусловили для молдавского языка большое число заимствований из русского и украинского.
Как известно, идентичность является продуктом социального обучения, проводимого такими институтами, как СМИ и образовательная система, и создается лидирующей социальной группой, которая вырабатывает и политизирует объективные культурные черты. Частая смена политического статуса Приднестровья (в чем можно убедиться, исходя из вышеизложенного) не могла не повлиять на этническую идентичность людей, проживающих в этом регионе.
Культурная политика менялась слишком часто и не успевала достичь конечной цели, но, тем не менее, этническая идентичность всех групп, живших в Приднестровье, в определенной степени менялась в соответствии с политикой предыдущих режимов. Городская жизнь, несмотря на проводимую политику коренизации, оставалась под влиянием русского языка. В то же время были предприняты шаги для замены национальной культуры и традиций советскими. В результате у молдаван, украинцев и русских в Приднестровье появилось больше общих черт, чем было у них с родственными группами, проживавшими вне границ региона.
Экономические различия между двумя берегами усилили чувство принадлежности к разным идентичностям. Вклад Приднестровья в республиканский бюджет МССР был значительно выше тех ассигнований, которые направлялись на развитие этого региона. Некоторые налоги, в том числе налог на землю, были в Приднестровье вдвое выше, чем в Бессарабии. В то время как левобережное население составляло 17% всего населения Молдавии, а территория – только 13% республиканской территории, в Приднестровье концентрировалось 37% промышленного потенциала республики. Видя такое несоответствие, приднестровцы считали, что развитие Бессарабии осуществлялось за счет левого берега. [1, с. 19].
Приднестровцы мало интересовались событиями, происходившими в Бессарабии (после создания МССР они по-прежнему называли правобережье этим термином, запрещенным режимом). Молодежь предпочитала получать высшее образование не в Кишиневе, а в Украине или России. Одесса для них была более привлекательным культурным центром, нежели молдавская столица город Кишинев.
Все это, в свою очередь, влияло на формирование отличного от «бессарабцев» мировоззрения и менталитета населения Приднестровья, и, таким образом, в Левобережье продолжала складываться особая региональная и этническая группа людей, ассоциировавшаяся и называющая себя народом Приднестровья.
Приднестровские молдаване считались более лояльными по отношению к советскому режиму и политически более благонадежными, чем молдаване из бывшей «буржуазной» Бессарабии; им отдавалось предпочтение в рамках кадровой политики [5, с. 61]. Отток молдавской интеллигенции из Приднестровья значительно ослабил молдавский этнос и его коллективную идентичность на левом берегу, что сделало эту группу больше расположенной к ассимиляции. Что касается украинцев, то последние украинские школы были закрыты в конце 50-х годов, тогда же перестали выходить публикации на украинском языке. Украинцы были вынуждены использовать русский язык, особенно в городах, и молдавский в этнически смешанных селах.
Немцы были репатриированы в Германию в 1940 году или высланы в Сибирь и Казахстан в конце 40-х, поляки ассимилированы, евреи выехали за границу. Русские посредством активных контактов с другими местными этническими группами как в языковой и культурной сфере, так и в своей повседневной жизни стали ближе к местному населению, нежели к русским, живущим на севере России или в Сибири, во всех советских республиках. Ситуация, когда титульная группа на своей территории не играет значительной роли потому, что большая ее часть представлена сельским населением (молдаване составляли 60% сельского населения и 25% городского населения Приднестровья), благоприятствовала осуществлению советской национальной политики, которая была призвана воплотить в жизнь идею создания в Советском Союзе единой наднациональной «новой исторической общности», называемой «советский народ».
Хотя советская национальная политика, нацеленная на создание новой идентичности – советского народа, была расценена в последующем как неправильная, признано, что в некоторых областях центральное советское руководство достигло определенных успехов. Одной из таких областей являлось и Приднестровье, где существовали необходимые социальные, культурные и исторические предпосылки для осуществления этой политики. В этом убеждает нас тот факт, что, когда в Кишиневе в 1988 году начался процесс «национального возрождения», проявившего через год очевидные прорумынские тенденции, приднестровцы почувствовали дискомфорт. Дело в том, что они были намного ближе к СССР и России как к законному правопреемнику Советского Союза и желали видеть Кишинев стоящим на той же позиции. Приднестровцы категорически отказались водрузить румынский триколор, ассоциировавшийся в памяти живущих поколений с самым жестоким политическим режимом времен фашистской оккупации.
В этих обстоятельствах было естественно, что идея создания автономии в Приднестровье нашла широкую поддержку среди населения. Автономия рассматривалась в качестве инструмента для защиты советских ценностей, для укрепления единства с СССР и для защиты Приднестровья от политики румынизации. Неприятие молдавского национализма вылилось в возрождение советских ценностей.
Привязанность к СССР и России ясно показала существование иной идентичности приднестровцев и ю, что регион отличается от Молдовы не только лингвистической ситуацией, но и этническим составом населения, историей межэтнических отношений и уровнем экономического развития. Поэтому можно смело утверждать, что в Приднестровье достаточно развита региональная идентичность.
Как же обстоит дело с формированием этнической идентичности как составной части идентичности региональной и в целом приднестровской?
По мнению современных ученых – политологов, социологов, этнографов и этнологов, этническая идентичность – это разделяемые в определенной степени членами этнической группы общие воззрения, сформированные в процессе взаимодействия с другими этническими группами. Значительная часть этих воззрений является результатом осознания общей истории, культуры, традиций и территории [2, с. 43]. Данная формулировка может быть применима к современному развитию приднестровского общества.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: формирование приднестровского народа как процесс формирования приднестровской идентичности имело место, но в условиях стабильности шло медленно. Когда же возникла опасность, угроза со стороны врага, страх, что большинство тех ценностей, которые взращивались десятилетиями, могут быть отданы в угоду прорумынски настроенным националистам, процесс укрепления идентичности получил новый толчок и продолжает развиваться сегодня. Приднестровцы стремятся добиться признания своей государственности мировым сообществом, в первую очередь для защиты своих этнических, социально-политических и национальных интересов и привилегий. А этого, как известно, можно добиться только сообща, чувствуя себя единым народом.
Список литературы:
- Бабилунга Н.В., Бомешко Б.Г. Приднестровский конфликт: исторические, демократические, политические аспекты. Тирасполь, 1998. 222 с.
- Бершин Е. Дикое поле, Москва, 2002. 123 с.
- Доклад №13 Миссии ОБСЕ в Молдове (13 ноября 1993г.) // Независимая Молдова, ноябрь, 1993.
- Кирошка К. Война на Востоке Республики Молдова (1992): Причины, факты, последствия // ArenaPoliticii. 1996. №1 С. 12-14.
- Скворцова А.Ю. Народ Приднестровья — собственная идентичность? // Ежегодный исторический альманах Приднестровья №7, Тирасполь, 2003, С. 58-66.
- Феномен Приднестровья, Тирасполь, 2003. 246с.
- Laitin David. The Theory of the Political Identity // Ethnic Mobilization and Interethnic Integration M.: TSIMO, 1999. 256 c.