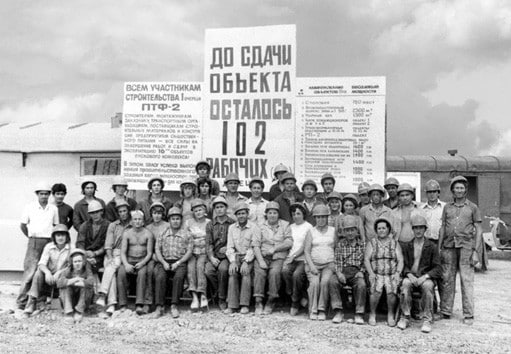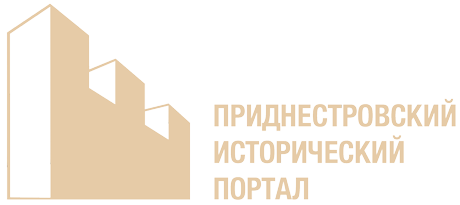Гарем Бендерского паши постепенно переходит из области легенд в область реальной истории. В феврале этого года Георгий Вилков, заместитель директора по научной работе исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость», обнаружил в переданных из турецких архивов документах некоторые данные о хозяйстве женской половины дворца паши.
Вообще, при слове «гарем» обычно возникает ассоциация с султанским двором в Стамбуле. Отдельный дворец, с шиком отделанные внутренние покои, великолепные наряды, толпы служанок…
Среднестатистическая реальность была весьма далека от этого представления. Начнем с того, что слово «гарем» происходит от слова «харам» — то, что запретно. Этим словом называли женскую половину дома — ту, где жили мать, жены, сестры, дети и наложницы. Входить на эту половину имели право только хозяин и его близкие родственники. Как утверждают исследователи, запрет этот был установлен не столько религией, сколько традицией.
Далеко не всякий турок имел гарем. Бедняк, который ютился со всем семейством в двух комнатах, не мог и думать о том, чтобы поделить их на мужскую (селямлик) и женскую (собственно гарем) половины. Это разделение появлялось у людей со средним достатком, и только у высокопоставленной знати вроде какого-нибудь трехбунчужного паши или визиря гарем хоть более или менее соответствовал стереотипным представлениям об этом понятии.
Но опять-таки более или менее. Мелек-ханум, жена великого визиря Кипризли-Мехмет Паши, за тридцать лет брака успевшая немало поездить вслед за супругом по турецкой периферии, так описывала дворец в Аккре:
«Строение, носившее название дворца — резиденция губернатора, — было тоже из глины и вмещало по две комнаты в каждом этаже; те, которые находились в верхнем этаже, имели с наружной стороны лестницу; когда шел дождь, то вода шла в комнаты сквозь крыши. Две другие комнаты выходили в сад и служили моему мужу для его служебных занятий».
Гарем с протекающей крышей… Правда, не вяжется с тем, что показывают в сериалах?
Но вернемся в Бендерскую крепость. Во время штурма армией Панина в 1770 году многие здания сгорели или были сильно повреждены, в том числе и дом коменданта, оказавшийся на направлении главной атаки на цитадель, сгорел полностью. Его пришлось восстанавливать практически с нуля.
«Здание представляло собой фактически служебное жилье паши, – рассказывает главный специалист архивно-исторического отделения Бендерской крепости Александр Булгаков. — Судя по той смете, которая имеется, это было каменное строение. В документе упоминается применение извести и тому подобных местных материалов. Перекрытия были деревянными, крыша, скорее всего, деревянная, в лучшем случае черепичная. Планировка вполне стандартная для нашего региона, близкая к характерной для балканских стран. Здание, скорее всего, было двухэтажным, селямлик и гарем представляли собой два его крыла».
Данных о внутренней планировке здания, о его отделке у бендерских ученых пока нет. Есть только общие параметры. Здание гарема находилось в 21 метре от цитадели. Размеры гарема составляли 30 на 10 метров, к нему были пристроены два туалета и две ванные, кухня с тремя печами площадью 131 квадратный метр, кладовые площадью 15 квадратных метров. Здание было окружено двухметровой высоты стеной толщиной почти в метр.
О населении гарема сейчас можно говорить главным образом в общем.
«Гарем разделялся на две части – старший и младший, — рассказывает Александр Булгаков. – В старший входили мать, жена, незамужние сестры, близкие родственницы, которых он взял на воспитание, — рассказывает Александр Булгаков. — В младший гарем входили служанки. В старший гарем попадали в случае заключения брака. Он заключался с целью обеспечить будущую жизнь девушки. Тут был больше вопрос выгоды, чем чувств. В служанки попадали двумя путями. Девушки из бедных семей нанимались добровольно. Они жили в доме своего работодателя, он давал им кров, еду и все необходимое. Второй путь – это невольницы. Татары и турки в ходе военных походов захватывали пленников. Особенно ценились женщины и мужчины среднего возраста, как наиболее работоспособные. Взятые в плен дети обычно погибали во время пути, когда невольников гнали в Крым. Выживали разве что подростки – где-то от тринадцати лет».
Основной рынок рабов в нашем регионе находился в нынешней Феодосии. Оттуда работорговцы вывозили живой товар в Стамбул, откуда они и расходились по гаремам.
«Кто-то покупал девушку для домашней работы, — рассказывает Александр Булгаков. – Очень ценились ткачихи, швеи, которые могли приносить доход. В любом случае все невольницы попадали в младший гарем, откуда со временем могли пробиться и в старший, как это произошло со знаменитой Роксоланой, которая из служанок смогла стать женой султана».
Сохранились две легенды, рассказывающие о тех, кто жил в гареме бендерского паши. Согласно одной из них, сераскир взял в наложницы славянку по имени Виорика, жительницу соседнего села Варница. Девушка родила паше сына, но не смогла смириться с неволей и в конце концов ее сбросили вниз со стен крепости, по которой до сих пор бродит ее душа.
Согласно второй легенде, некая кукоана Марюка стала наложницей паши, который выплатил ее родителям солидное вознаграждение. По ее прихоти турки ослепили одного из жителей Бендер. Он стал нищенствовать, но опять-таки по прихоти Марюки у него отобрали тарелку, в которую ему бросали милостыню. А потом пришла русская армия и осадила крепость. Марюке стало нечего есть, и она вынесла русскому командующему ключи от крепости на той самой тарелке, которую когда-то отняли у нищего.
«Если исходить из легенды, то Виорика вошла в старший гарем, — отмечает Александр Булгаков. – Если наложница становилась матерью ребенка паши, то ее переводили из младшего гарема в старший. Она не была женой, но и служанкой уже не была. То же самое касается и Марюки. По легендам выходит, что девушки принадлежали все-таки к старшему гарему».
К сожалению, за исключением легенд, о тех, кто жил в гареме, неизвестно практически ничего. Часть документов турки уничтожили, часть вывезли. Единственным документом, из которого мы можем почерпнуть хоть какие-то сведения о жительницах гарема, является список штата Али Гасан Паши, которого вместе с приближенными вывезли в 1806 году из Бендер в Николаев.
Согласно этому списку, у 80-летнего паши была 35-летняя жена Эминя, при которой состояли пять воспитанниц. Самой старшей из них была 30-летняя Изета, самой младшей – 12-летняя Таберноса.
В другой копии того же документа «воспитанниц» называют служанками, и по большому счету разница в понятиях была не так уж велика. Уже упоминавшаяся Мелек-ханум в своих мемуарах писала:
«Я взяла к себе на воспитание одну молодую черкешенку, которая и выросла у меня в доме. Я дала ей некоторое образование, и когда ей минуло четырнадцать лет, я сделала ее гувернанткой моей дочери Айше».
Согласитесь, гувернантка – это все-таки, хоть и образованная, но прислуга…
Кроме Эмини и ее служанок, в гареме жили 50-летняя жена прежнего трехбунчужного паши Фатма, ее служанка Наиле 21 года от роду и 60-летняя вдова военного чиновника Фатма Кадын.
С тем, что из себя представлял сам гарем как здание и кто в нем жил, мы вроде бы разобрались. Осталось разобраться, как проходила жизнь в гареме. Дадим вновь слово Мелек-ханум (простим старой женщине некоторую склонность к злословию):
«Полнейшее отделение гарема от селамлика как нельзя лучше удовлетворяет гордости и чванству константинопольских аристократов. Естественное последствие такого отделения этих двух помещений есть появление двух совершенно различных порядков жизни. Женщины, со своей стороны, имеют свои частные дела, свое собственное домашнее хозяйство и свои собственные интриги; они принимают своих друзей, имеют свои приемные дни и забавляются по-своему. В селямлике паши с друзьями и прислугой делают то же самое и проводят время, принимая посетителей и гостей, интригуя и сплетничая, или же сидят, как куклы, для того, чтобы на них дивились их паразиты и льстецы».
Если верить Мелек-ханум, то обычный распорядок дня у турецкой знати был примерно следующим. Где-то до 5-6 часов вечера паша был на службе. Закончив дела, он вместе с адъютантами торжественно приезжал домой, где не заходил в селямлик, а направлялся прямиком в гарем. Там его встречали с подобающим почетом. Этикет требовал, чтобы время его нахождения там не превышало полчаса. Этого как раз хватало, чтобы переодеться по-домашнему, в халат и горностаевую шубу.
Затем паша шел в селямлик, где его окружала «целая толпа друзей, льстецов и лиц, жаждущих от него милостей». В этой компании паша выпивал бутылку ракии, закусывал изюмом и миндалем, выкуривал несколько трубок.
Затем наступало время обеда.
«Счастливцы, удостоенные чести разделить с пашой его обед, громко выражают ему свою благодарность и при каждом глотке не преминут сделать глубокий поклон, — рассказывает Мелек-ханум. — Паша, видя, что его присутствие стесняет хороший аппетит его гостей, принимается поощрять их своим могучим голосом. С этой целью он при появлении каждого нового блюда громко и звучно приглашает их есть, восклицая: «байурун, байурун», что означает «ешьте, друзья мои, ешьте»».
После обеда паша со свитой говорят о политике, нисколько не заботясь о том, что в это время делают их жены.
«Они же в свою очередь стараются забавляться как могут; собирают своих подруг и всех соседних сплетниц и с ними хохочут, играют в разные игры, а иногда занимаются музыкой», — пишет Мелек-ханум.
Наконец, за полчаса до полуночи, паша отправляется в гарем и остается там до утра. Утром невольницы помогают ему одеться и умыться. Затем он на какое-то время остается в гареме, выслушивает его обитательниц.
«Только в это время его дочери и прочие родственницы имеют возможность пользоваться его обществом, — отмечает Мелек-ханум. — По истечении этого короткого срока он спешит в селямлик, где его уже ждет целая толпа просителей».
С таким образом жизни родители мало обращают внимание на детей. Мальчикам проще – они могут выходить из гарема в любое время, на их воспитание обращается больше внимания.
«Но дочерям приходится действительно страдать от такого полного отсутствия семейной жизни и ласки, отца, которого они видят не более одного или двух раз в месяц, — сетует Мелек-ханум. — Удаленные в свои комнаты, они совершенно предоставлены себе, не имея другого общества, кроме окружающих их невольниц и старух, которые занимают их и тешат по-своему».
Такая жизнь в гареме Бендерской крепости закончилась в 1806 году с отъездом Аги Гасан-паши. В Турции история гаремов заканчивается с образованием Турецкой республики в двадцатых годах прошлого века. В целом же, как отмечают некоторые исследователи, кое-где гаремы сохраняются до сих пор…