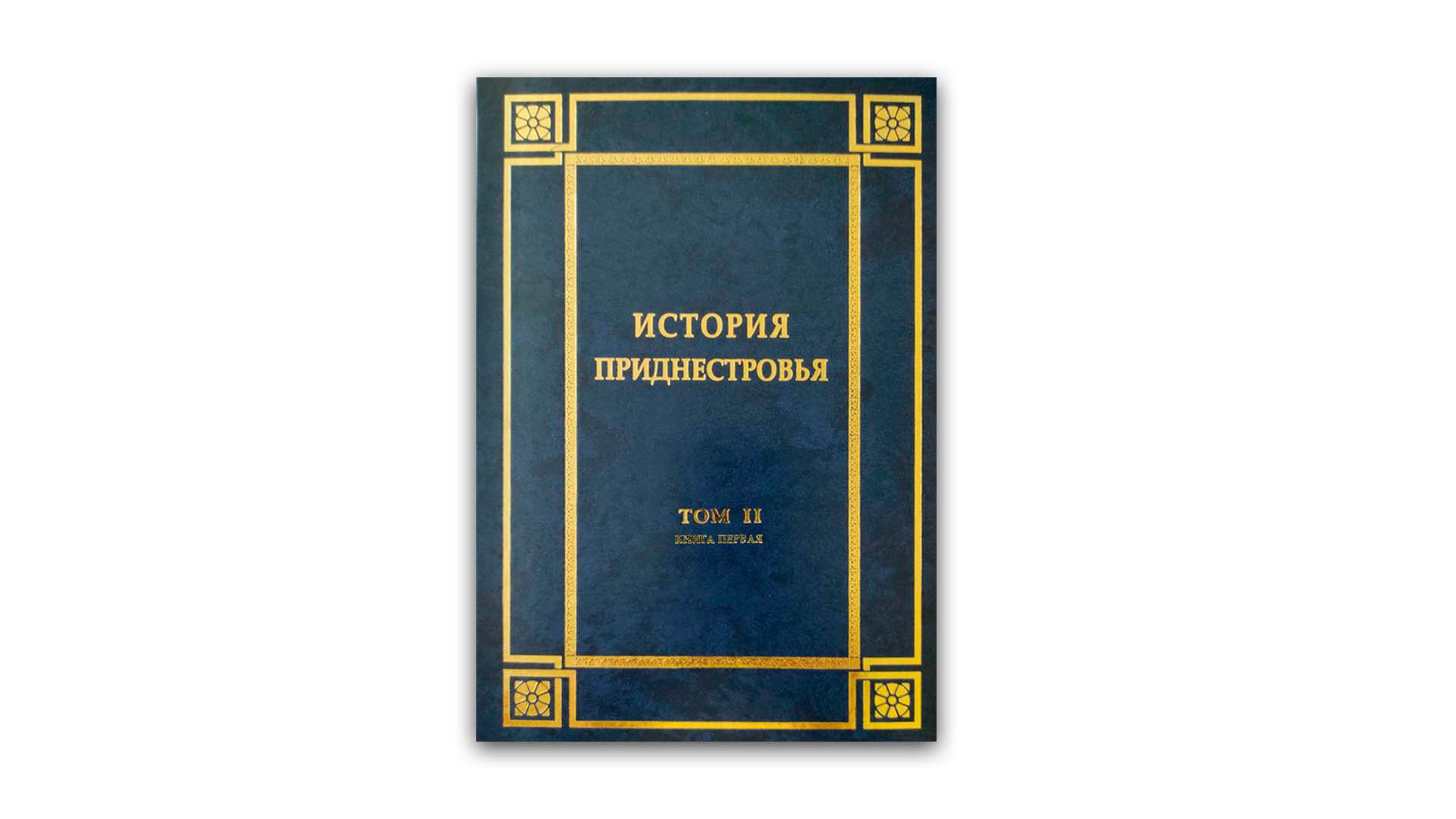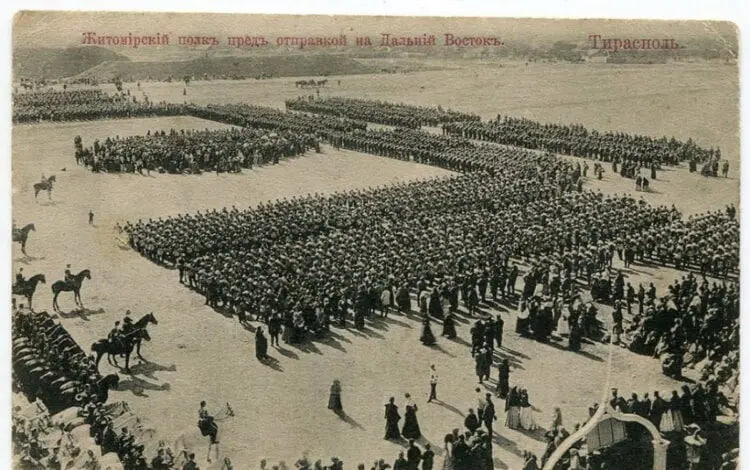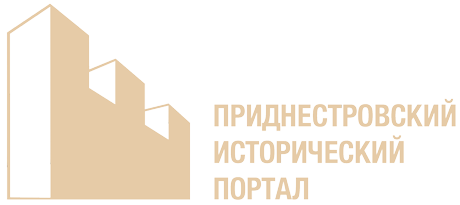В переводе с латыни «regnum» – королевство, царство. Так исследователи именуют раннее государственное образование, возникшее в период господства на территории нашего края готов, объединённых во второй половине четвёртого века Эрманарихом (или Германарихом). Его западной границей, судя по всему, служил Днестр.
Мы уже касались этой интереснейшей темы. Она-то и навела на мысль о запуске проекта «Народ как река», в самом названии которого акцентирована роль нашей главной водной артерии – географического магнита. Поэтому адресуем читателя к более ранней публикации «Готы в Приднестровье» (от 1.08.2024 г.), а сами, оставляя за бортом широкий исторический контекст, на сей раз сосредоточимся на феномене полиэтничного объединения, вновь и вновь возникавшего на берегах Днестра. Regnum Эрманариха послужит в этом, растянувшемся на века, а то и на тысячелетия, путешествии условной отправной точкой.
Почему именно готы? Дело вовсе не в аналоге норманской теории, согласно которой древние германцы сыграли стержневую роль в формировании Древнерусского государства. Нет, просто держава Эрманариха, согласно ряду современных исследователей, определяется как наиболее раннее и притом наиболее крупное потестарное (раннеклассовое) образование.
Важно отметить: объединение готов не было кочевым, а базировалось на комплексном земледельческо-скотоводческом хозяйственном укладе. Что касается его полиэтничной структуры, таковая не вызывает сомнений. К примеру, австрийский учёный Рейнхард Венскус выдвинул идею принципиальной полиэтничности готов в Северном Причерноморье, позднее развитую X. Вольфрамом. Она хорошо согласуется с результатами независимых исследований российских и украинских археологов.
А вот что пишет Ирина Зиньковская в монографии «Готланд Эрманариха: остроготы в Восточной Европе»: «Ираноязычные кочевники, сарматы и аланы, а также осевшие на землю поздние скифы были основным населением степной зоны Восточной Европы до переселения туда готов. Поэтому логично было бы считать их тем этническим субстратом, на который наложился пришлый, восточногерманский этнос, давший начало Черняховской культуре».
Указанную культуру считают субстратом, из которого выделились восточнославянские племена (такой точки зрения придерживался академик Борис Рыбаков). Сама держава Эрманариха как бы предвосхитила Киевскую Русь, также возникшую на главных торговых (речных) путях Восточной Европы, связавших север и юг.
Как мы помним, королевство Эрманариха просуществовало недолго, пав под ударами гуннов. Однако после его распада готы не исчезают полностью из Северного Причерноморья, часть племён остаётся здесь, постепенно ассимилируясь, сливаясь с местным компонентом. Но и в куда более поздние эпохи проникает легендарное эхо державы Эрманариха. Журналист, историк Александр Корецкий в одной из публикаций приводит средневековую карту Фра Мауро (1459 г.), где в нижнем течении Днестра обозначена страна Готия.
Не будем преувеличивать значение данного свидетельства. Таким виделся мир венецианским торговцам и путешественникам. Для сравнения: и на более поздней карте мира образца 1550 г. просвещённого французского картографа Пьера Деселье на северо-востоке Московии помещена миниатюра русского охотника с пёсьей головой. Кроме того, здесь, возможно, наблюдается некая рефлексия. Достаточно сказать, что те же византийские авторы питали склонность именовать готов «скифами», что отражало, прежде всего, устойчивую античную литературную традицию – обозначать так все народы Скифии, но никак не этнические реалии кануна Великого переселения народов. Можно предположить, что здесь мы имеем дело с определённой инерцией.
И всё-таки дыма без огня не бывает. Скажем, про скифов мы знаем, что их наиболее поздние памятники в Поднестровье датируют концом II века до н.э. Тогда как археолог Борис Магомедов допускает, что в германские общины готов спорадически могли входить представители других этносов: поздние скифы, сарматы, фракийцы. Ирина Зиньковсая также пишет о скифском компоненте державы Эрманариха. А ещё отмечает, что «по данным археологии видно: далеко не всё население, входившее в Черняховскую общность, окончательно покинуло прежние места обитания».
Здесь мы подходим к исключительно важной теме. Дело в том, что в отечественной исторической науке возникло мнение о том, что население Приднестровья вплоть до вхождения в состав России радикально менялось, практически до неузнаваемости. Как пример такого направления мысли: «За многие века нашей истории на берегах Днестра жили, смешивались и уходили в небытие(!) многие народы и народности… С конца XVIII века, с присоединением территории к Российской империи здесь сложились уникальные условия, когда на небольшом участке сосуществовали представители разных культур и верований. Естественно всё это смешивалось, переплеталось – происходило формирование приднестровского народа».
Однако представляется вполне очевидным, что носители «разных культур и верований» сосуществовали на берегах Днестра и значительно ранее восемнадцатого столетия, свидетельство тому – regnum Эрманариха. При этом народы и народности отнюдь не уходили в небытие. Корректнее, на наш взгляд, было бы говорить об ассимиляции, этногенезе, как показывает пример скифов, сарматов, готов, печенегов, половцев, неизменно вливавшихся в позднейшие формирования. Так, по словам историка Георгия Вернадского, в улусе Ногая соединились половцы, болгары, аланы, бродники, жившие в районах нижнего Днестра и нижнего Дуная.
А вот что, применительно к Средневековью и Новому времени, отмечает доктор исторических наук, заведующий НИЛ «Археология» Виталий Синика: «Остатки венгерского, печенежского, половецкого населения Поднестровья в дальнейшем влились в массу людей, которая пришла с востока. Со временем они становятся мусульманами. Под именем «ногайцев» это население много позднее встречало Российскую империю».
Итак, речь, повторим, идёт скорее о пунктирно обозначенной многовековой преемственности, нежели о череде бесследных исчезновений.
Полиэтничное население королевства Эрманариха оставило по себе Черняховскую культуру, субстрат для будущих восточнославянских народностей. Другое дело, что сама эта культура стала возможной благодаря, пусть и кратковременной, политической стабильности, установившейся вертикали власти готских вождей. Дальнейшая консолидация была прервана вторжением гуннов.
Но так не раз происходило в истории Приднестровья: ростки оседлой цивилизации сталкивались с волнами кочевых захватчиков, уничтожались ими, хоть далеко и не в полном виде. Важно, что архетип, прообраз многонационального, поликультурного социума вновь и вновь давал о себе знать. Конгломерат культур возрождался, как феникс, пока не оформился в существующий ныне приднестровский народ.